система захарова
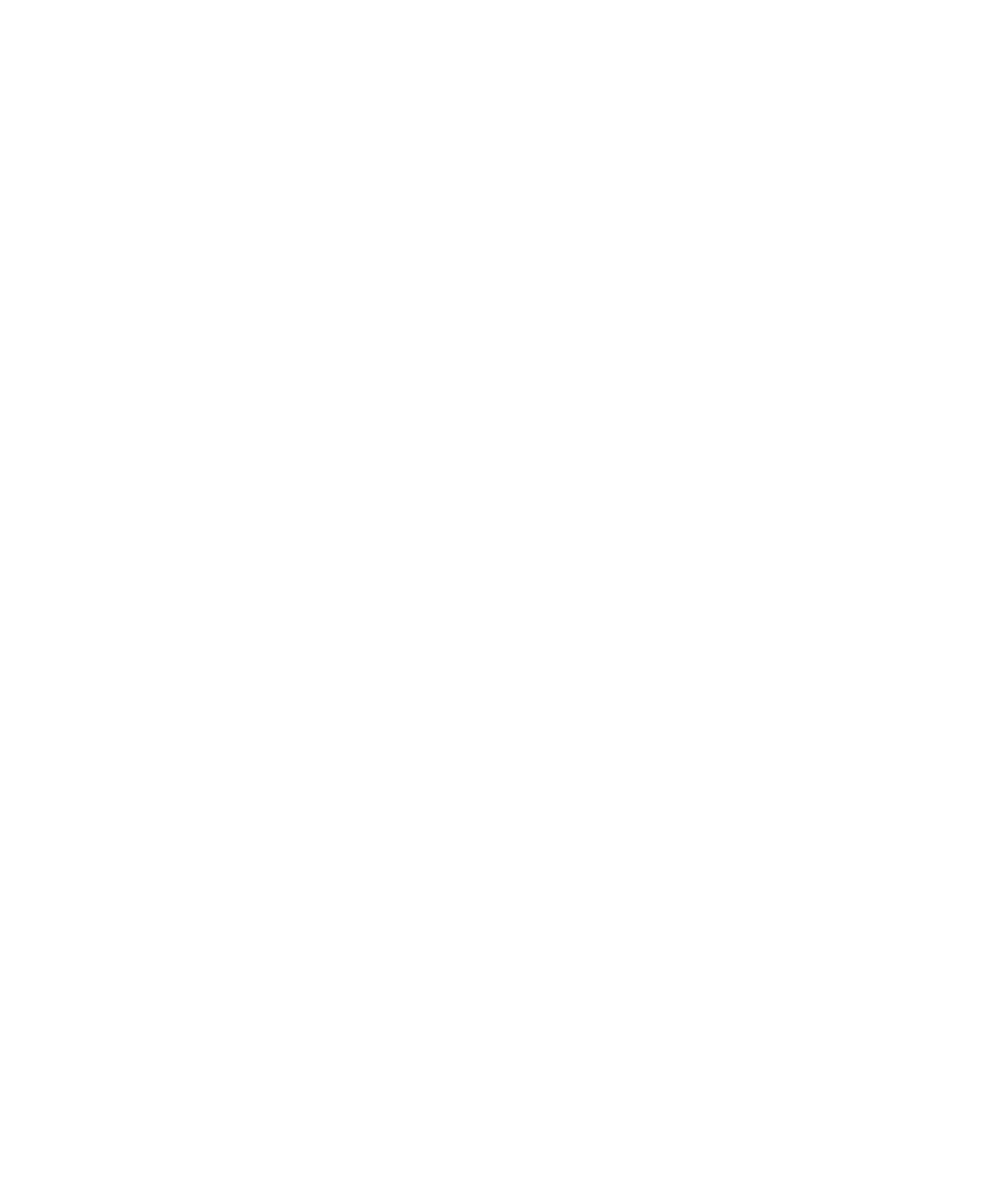
Театр это искусство или организация? Актер — призвание или профессия? И какова роль вешалки в современном театре?
Первое впечатление, что те вещи, о которых рассказывает Марк Анатольевич, — не поддаются измерению и учету: слишком уж «тонкие материи». Все равно, что искать «Формулу любви». Здесь нет шаблонов, каждый раз — свое решение, непредсказуемое, как «Тот самый Мюнхгаузен». Это творческое управление похоже на сложный музыкальный инструмент: настраивает, играет и придумывает партии — Мастер. Вот такое «Обыкновенное чудо». Но постепенно именно так открывается «Система Захарова».
Первое впечатление, что те вещи, о которых рассказывает Марк Анатольевич, — не поддаются измерению и учету: слишком уж «тонкие материи». Все равно, что искать «Формулу любви». Здесь нет шаблонов, каждый раз — свое решение, непредсказуемое, как «Тот самый Мюнхгаузен». Это творческое управление похоже на сложный музыкальный инструмент: настраивает, играет и придумывает партии — Мастер. Вот такое «Обыкновенное чудо». Но постепенно именно так открывается «Система Захарова».
Марк ЗАХАРОВ — уже более 35 лет во главе «Ленкома». Мы сидим в кабинете Марка Анатольевича, а из репродуктора фоном постоянно доносятся актерские реплики: на сцене идет спектакль «Женитьба», и даже когда режиссера нет в зале — все интонации у него под контролем.
«К сожалению, я сейчас являюсь таким человеком, от здоровья которого, от самочувствия, от настроения очень многое зависит»
Марк Анатольевич, вы начали создавать свой «Ленком» в уже «пропитанных театральным духом» стенах (в 1927 г. в здании был открыт театр рабочей молодежи (ТРАМ)). Что это было за место, когда вы сюда пришли?
«К сожалению, я сейчас являюсь таким человеком, от здоровья которого, от самочувствия, от настроения очень многое зависит»
Марк Анатольевич, вы начали создавать свой «Ленком» в уже «пропитанных театральным духом» стенах (в 1927 г. в здании был открыт театр рабочей молодежи (ТРАМ)). Что это было за место, когда вы сюда пришли?
— Наверное, с точки зрения режиссерского эгоизма, я пришел в «хорошее время», когда в театре было… тяжело и плохо. После ухода Эфроса (в 67-м, — Авт.) постоянно менялись главные режиссеры. Труппа ждала какого-то если не успеха, то во всяком случае «культурного» спектакля. Я начал с безумного, громкого, шумного действия, которое называлось «Автоград ХХ1». Это было в 73-м году, и том же году меня назначили главным режиссером.
Первые года два-три было очень тяжело. В театре сильно пили. Была такая мода: выпить или после спектакля, или до спектакля, или во время. Я объяснил, что рассматриваю это как уголовное преступление в сфере театральной этики и с людьми, которые не отрегулировали свое отношение с алкоголем, работать не буду и не могу. Пришлось с кем-то расставаться.
Еще я заметил одну интересную вещь, которую теперь мало кто знает. Раньше в любом учреждении было очень много собраний (я еще помню открытые партсобрания). И я заметил, что когда объединяются люди одной профессии — будь то режиссеры, или писатели, или актеры — очень резко понижается планка рассуждений, и просыпаются какие-то звериные инстинкты… уничтожения. Эта «народная» энергия гуляет и готова разрядиться в кого-то. Несколько раз мне приходилось принимать на себя «удары молнии». (Еще уходя из Театра сатиры, я запомнил слова своего учителя Плучека: «Марк, только не поворачивайся спиной к артистам, могут укусить, непроизвольно. В глаза смотри».) Я понимал, что это, ну… какая-то метафизика наполовину с физикой. Инстинкт толпы. Каждый в отдельности может быть очень интересным человеком, но если их собрать человек 150! Если посмотреть стенограммы писательских съездов — ужас!
Вообще этот трудный период у меня не очень долго длился — может, я преувеличиваю. Потому что уже в 74-м году появился «Тиль», пьеса Горина на темы романа Шарля де Костера и… пошел зритель, начались аншлаги. Играл молодой неизвестный Караченцов вместе с Инной Чуриковой, про которую сразу стало понятно, что она — первая актриса в этом театре. Это счастливое время зафиксировал Григорий Горин, он мне сказал: «Ты знаешь, я слышал разговор ваших билетерш по телефону. Одна говорила: «У нас раньше такие люди приходили — беда: в валенках, в галошах. А сейча-ас! Сплошь идут в болонии, в бо-ло-нии!» (А тогда плащ болонья — это был символ достатка, как сейчас автомобиль, наверное.)
После «Тиля» дело, что называется, пошло. В меня поверили, я приобрел определенный авторитет. Не все спектакли были хороши, далеко не все, но что мне, вероятно, удалось — так это создать какую-то такую творческую среду, где произрастали и формировались талантливые люди. И они с самого начала… дорожили театром. Может быть, мне так казалось, а, может быть, так и на самом деле. Во всяком случае, когда Янковского позвали в Париж в течение месяца играть французский спектакль, конечно, у меня рука не поднялась запретить, сказать: «Нет, Олег, нельзя ездить», — и он поехал, но как только контракт кончился, все — «прощай», посидели в каком-то кабачке и разъехались кто куда, весело расстались. Вот тогда он почувствовал, что значит иметь дом. Я думаю, многие артисты это почувствовали. И сейчас, в связи с кризисом и закрытием некоторых кинопроектов, пришла вторая волна «осознанного патриотизма» — по-моему, молодые артисты понимают, что русский репертуарный театр и его традиции, которые я исповедую, дорогого стоят. Театр надо беречь, лелеять и хранить все лучшее, что было в нем заложено до тебя. Я всех, конечно, не помню (Николай Крючков при мне здесь не работал, как и Валентина Серова), а Константина Симонова я все-таки чуть-чуть, краешком, застал.
— Хотелось бы уточнить про «осознанный патриотизм». Что держит артистов в театре: стабильность, отношения друг с другом, ваш авторитет?
— Наверное, все вместе. У нас гуляет и в СМИ, и в сознании тоска по простым решениям. Знаете, как Сталин раньше — все очень просто объяснял в кратком курсе истории ВКП (б). На этом выросло целое поколение ныне действующих и ныне живущих. Поэтому до сих пор есть желание — один признак найти, второй, три аспекта, четыре — на самом деле их очень много…
— Вы сказали про собрания людей одной профессии. То есть вам кажется, что это скорее похоже не на «мозговой штурм», а наоборот — происходит общее понижение уровня?
— В определенных случаях. И еще на открытом воздухе, иногда. Так, Хрущева всегда слушали, аплодировали, а он попробовал на стадионе выступить (где-то в Ташкенте или в Алма-Ате, не помню) — и как начали свистеть, как начали орать… И он в первый раз понял, что такое народ.
Мне казалось, что я выступаю хорошо. Одно время даже поднимал политические темы, и сейчас иногда еще хочется что-то высказать, но я понял — только в закрытом пространстве. А выйти в сквер и говорить, как Новодворская, Жириновский, — нет, не получается.
…Атмосфера травли на собраниях, сталинизм — мы это до сих пор не преодолели, это осталось на уровне народного подсознания, генетической памяти. Конечно, с помощью культуры, самовоспитания, воспитания мы подавили в себе некоторые инстинкты, но они все еще живы. Помню, на советских собраниях обсуждали: как живем, что делаем, что молодежь пошла «не та». Замечательно, кстати, что позже мне попался на глаза монолог античного философа. Автор возмущался: в Древней Греции молодежь… очень невоспитанная! Масса претензий была у мыслителя к молодежи. Знакомство с этим монологом стало для меня знаковым, рубежным. Я понял: молодежь всегда раздражает. Поэтому, когда у меня появился студент с серьгой в ухе, я месяц воспитывал сам себя, чтобы его полюбить. Серьга мешала, честно скажу. Но через месяц я это в себе подавил.
— У вас было какое-то представление, каким хотите видеть театр в будущем, или все складывалось само собой?
— Была какая-то хорошая закваска в студенческом театре МГУ, где я работал некоторое время. Оттуда Плучек позвал меня в Театр сатиры. Во мне бушевала волна юношеского максимализма, и я понимал, что хорошо, когда люди смеются, много смеются, радуются, но смех при этом не глупый, а касается каких-то серьезных проблем и корнями уходит в вещи не смешные. Хотелось, чтобы зрительская радость опиралась на раздумья, которые вообще свойственны русской интеллигенции, русскому передовому зрителю и читателю. И это получилось: сначала в спектакле «Тиль», потом — еще в ряде спектаклей, в «Поминальной молитве», в «Юноне и Авось» (хотя это очень разные по стилистике сочинения). Цирковой смех я тоже уважаю, но это не моя профессия и я не очень его люблю…
В общем, очень многое совпало, сложилось: я оказался в этом театре в нужный момент, в нужное время, появился рядом Визбор, с которым мы сочинили вместе пьесу «Автоград». Потом дружба с Гориным дала возможность начать репетировать и шить костюмы для спектакля «Тиль», когда еще даже не было второго акта написано. Вы знаете, очень много случайного в рождении Ленкома, но надо относиться к хаосу и к случайностям как к каким-то божественным проявлениям. Серьезно относиться.
— Сравнивали свой театр с другими, хотели быть № 1 в Москве?
— Нет, я так не думал, у меня такого самомнения никогда не было, и сейчас нет. Но, что касается «сравнивать себя с другими» — перед тем, как поставить «Доходное место» в Театре Сатиры в 67-м году, я пошел в Центральный детский театр, где уже шел этот спектакль. Билетеры, видимо, поняли, что я из какого-то другого театра и заботливо посоветовали: «Только в партер не садитесь, лучше — в стороночке». «А почему?» — говорю. — «Изрогаток стрелять будут…» Ну и действительно, когда начался спектакль, началась стрельба горохом из уличных рогаток, ребята развлекались — а я смотрел это «Доходное место» и думал, что построить такой театр мне, конечно, не хочется. Хотя мне всегда хотелось, чтобы театр был зрелищем демократичным — я не люблю крайности (постановки в каких-то репетиционных залах, подвалах не мое). Я вкладываю в понятие «демократичности» другой смысл. Мне хочется сделать такой спектакль, который бы понравился и принес серьезную радость и гурману, разбирающемуся в театральном искусстве, и человеку, который первый раз пришел в театр. Энергетика спектакля все равно должна захватить его: вовлечь его эмоции, нервную систему, психику… Он все равно должен получить заряд!.. Я понимаю, что человек, выходя из театра, не говорит: «Теперь я буду жить по-другому!» — так не бывает, но что-то может в подсознании осесть.
Я в семь лет посмотрел «Синюю птицу» (матушка привела меня в художественный театр). Я ничего не помню, лишь какое-то смутное ощущение загадочного счастья и — больше ничего! Но меня перевернуло всего! Иногда театр должен воздействовать как музыкальное произведение, хотя традиция русского репертуарного театра — это мысль. Но сегодня и мысль должна быть облечена в музыкальное звучание. Прямая публицистика, лозунг, пусть даже самый умный, своевременный, нужный — не могут существовать в сегодняшнем театре. Есть «Эхо Москвы», «Новая газета», «Московский комсомолец», другие средства массовой информации — и с ними соревноваться не надо… А раньше, кстати, — можно было! Когда в 77-м году нас выпустили за границу, и в Польше, в Кракове, мы играли «Тиль», один артист сказал мне: «Запомни, Марк, это не может повториться ни-ког-да!» В зале сидела студенческая польская молодежь, и когда они вдруг слышали со сцены, допустим: «Ну и жизнь настала!» — гром оваций! Радость, братания. «Куда они все смотрят, что они с нами делают?!» — братания в зале, аплодисменты, крики «Ура!», «Молодцы!» Каждая фраза — на аплодисменты. Это было особое время, особый момент, особая ситуация и такое действительно может не повториться.
— Для вас ленкомовская команда — это кто?
— Есть люди, которые уже ушли от нас: Евгений Павлович Леонов, о котором мы все время продолжаем думать, вспоминать, даже его интонации, шутки. Есть Татьяна Ивановна Пельтцер, которая за мной ринулась из театра Сатиры в Ленком. Есть Александр Абдулов — конечно, великий русский артист, которого по настоящему любил… народ. То количество писем, которое я лично получал — не он, а я (!) (когда он болел, когда я к нему ездил в Тель-Авив и мы с ним обговаривали некоторые возможные моменты существования «Ленкома» вне его участия) — эти письма о многом говорят… Да, есть традиции, есть память. «Ленком» — это Караченцов (кстати, это он первым придумал назвать так театр официально, потому что изначально слово «Ленком» было продуктом городского московского фольклора). Ленком — это ныне замечательно играющий на нашей сцене Александр Збруев, Леонид Броневой, Инна Чурикова (удивительный и талантливый человек). Лет 16 назад, когда у нас вышел спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро», пришло второе поколение «Ленкома» — Захарова, Певцов, Лазарев, Кравченко — люди, тоже уже получившие определенную известность и радующие зрителя одним своим появлением на сцене. Сейчас очень много взяли молодых. Из-за этого в какой-то степени и «Вишневый сад» появился, который я сейчас репетирую: много женских ролей, нужно сразу попробовать молодых актрис…
— Для вас «Ленком» — это в первую очередь актеры или администраторы в том числе?
— Это всё вместе. Даже эти стены вносят какой-то свой вклад в нашу работу, я это чувствую. Я понимаю этот стиль модерна начала ХХ века, который когда-то презирался как купеческое искусство, а теперь воспринимается как какой-то шик. Все имеет значение. С нашим художником Олегом Шейнцисом (человек, который очень много сделал для театра, недавно он ушел из жизни), мы в свое время договорились, что театр начинается не с вешалки, а с фасада с 10−20 метров от театра — там люди начинают получать первые сигналы. Это как в полиграфическом искусстве — есть такие газеты, которые не хочется брать в руки: слишком раскрашена, слишком крикливые заголовки (кто-то придушил кого-то, кто-то разводится). Это может воздействовать даже на подсознание, не обязательно на сознание…
Есть в «Ленкоме» люди, которые занимаются светом, звукорежиссеры, музыканты, композиторы, которые понимают, что такое театр и законы театра. У нас процентов на 80 — народ очень не случайный. Получается какой-то коллективный сплав.
Но если совсем упростить наш разговор — в основе нормально функционирующего театра все-таки два основополагающих компонента: это некое соборное начало, коллективное мышление, дисциплина, некие этические нормы, через которые нельзя переступать ни в коем случае, и я за этим очень слежу, как мне кажется, и второе — это, конечно, художественный лидер. К сожалению, я сейчас являюсь таким человеком, от здоровья которого, от самочувствия, от настроения очень многое зависит. Понимаете, если завтра на меня упадет кирпич или что-нибудь случится, то, к сожалению, это очень сильно повлияет на жизнь театра… Ну на примере, наверное, самого лучшего русского репертуарного театра БДТ под руководством Товстоногова можно понять некоторые закономерности, которые, увы, существуют и о которых надо знать… Он, кстати, говорил, что антреприза придет на смену репертуарному театру — в том смысле, что русский репертуарный театр хоть и останется, но не будет столько театров похожих друг на друга — будут какие-то антрепризные спектакли, рассчитанные на определенные индивидуальности режиссерские и актерские.
— Вы это как минус своего руководства воспринимаете: если коллектив оставляете, он разрушается…
— …разрушается. Репертуарный театр без лидера разрушается. Некоторое время коллектив еще будет существовать по инерции, а потом должна или прийти какая-то фигура, которая пользуется авторитетом и доказывает это на сцене «Ленкома», или… Не знаю даже, не хочется прогнозировать, что будет дальше, хотя все далеко идущие прогнозы у меня очень негативные, потому что увеличиваются глобальные риски — вот сегодня все болеетревожные вести о том, что «свинячий грипп» наступает, магнитное поле Земли повело себя как-то неадекватно, тают ледники… Далеко идущие прогнозы — ничего хорошего не несут. И потом, когда начался мировой экономический кризис — понимаешь, что все достаточно эфемерно, зыбко. Наверное, и поэтому тоже мы репетируем сейчас «Вишневый сад» — потому что там поднят вопрос недвижимости в России — это так все неопределенно… Если у вас есть дача, а завтра придут и скажут, что эта земля продана уже, вы будете, конечно, опечалены, но чтоб дойти до страсбургского суда — у вас может просто не хватить сил.
— Это необходимость, что в творческом коллективе должен быть лидер?
— В репертуарном театре должен быть.
— То есть это не тот механизм, который можно завести, и он будет сам по себе крутиться?
— Нет, к сожалению, репертуарный театр — нет. Сам по себе может крутиться спектакль — если хороший режиссер выберет артистов, так называемый кастинг проведет, и запустит спектакль — вот такая постановка может довольно долго жить. Хотя у меня подозрения, что все-таки… не очень долго, без какого-то режиссерского активного вторжения и корректив, реагирования на время. У нас очень быстро меняется обстановка, очень быстро меняются настроения. Я даже заметил, что если спектакль идет в плохую погоду — это одна ситуация на сцене (и в зрительном зале, между прочим, тоже). А как погода хорошая или ровная — всё ничего. Количество факторов, которые воздействуют на искусство, на творчество — огромно. Я недавно смотрел по телевидению (хотя я не часто смотрю телевизор, но все-таки) «Культурную революцию». Там был вопрос о деньгах. И многие говорили, что деньги «очень портят» людей. А я подумал — применительно к искусству (начиная с Микеланджело или с еще более древних времен) — если бы не было авторского гонорара, сколькопроизведений искусства не увидели бы свет! Представить страшно! Алексей Толстой начинал работать только тогда, когда заключал контракт и получал аванс.
— Марк Анатольевич, а был какой-то момент, когда вы почувствовали: «Вот оно! Есть костяк труппы!»
— Я почувствовал, что что-то начало получаться еще на спектакле «Тиль», на репетиции, потом зрительный зал окончательно это ощущение откорректировал и внушил добрые надежды. Но, наверное, настоящим откровением стала «Оптимистическая трагедия». Караченцов, Леонов, Чурикова, Абдулов (здесь в нем впервые проклюнулся трагический талант, какая-то темная энергетика, сила мощного гипнотического воздействия, потом я это всячески в нем развивал, поддерживал, использовал в постановках) — когда все выступили вместе, это была такая мощная атака! Я потом очень натерпелся от цензурного аппарата, который со мной столько раз расправлялся, правда, я никогда не отступал и ничего не менял в спектакле (я просто откладывал его, а спустя время снова возвращался к задуманному). Так «Три девушки в голубом» по Петрушевской 4 года не могли пробиться!
— Иван Берсенев, пришедший в этот театр режиссером еще в 38-м, говорил, что застал разных актеров: были талантливые, были бездарные, от которых надо было как-то избавляться… Как у вас происходил процесс отбора людей?
— Я вам расскажу такой неприятный факт из моей биографии. Я понимал, вроде, по закону, когда приходит новый режиссер, он должен произвести какие-то кадровые изменения, иначе — какой он режиссер? И я пригласил одну актрису, но понял, что я как-то не справляюсь с этим разговором, что вот ей «надо бы уйти». И когда увидел, что у нее навертываются слезы — я подумал: какое я имею право женщине, которая мне годится в матери (!), калечить жизнь?! Пришел какой-то пацан из студенческого театра, из Сатиры, не пойми кто. И вы знаете, в своей жизни я никого не уволил просто так, за то, что мне что-то не нравилось в игре — увольнял только за грубые нарушения дисциплины, за этические проступки. Тут я проявлял какое-то упрямство и жестокость и понимал, что лучше это делать публично, один раз мне даже пришлось валидол пить, а в отношении художественных вопросов — я никого не трогал, даже если мне кто-то очень не нравился.
А потом мне однажды преподнесла хороший жизненный урок Елена Алексеевна Фадеева — такая была ведущая актриса, бессменный депутат Верховного совета, сыграла в кино мать Ленина. Я смотрел какой-то спектакль, не мною поставленный, и там она уж очень все раскрашивала, ни одного слова в простоте. И когда я пригласил ее для участия в пьесе «Три девушки в голубом» и в какой-то момент мы остались вдвоем, я сказал: «Елена Алексеевна, а почему вы так раскрашиваете каждое слово, какие-то инкрустации голосовые?..» И она мне вдруг ответила: «Марк Анатольевич, я ведь понимаю, что я плохая актриса, и у вас другие вкусы, вы с собой привели других людей…» (Тут еще Пельтцер пришла — тоже Фадеевой показалось, что на ее место.) И я — это мне тоже повезло, что так все совпало, не часто подобное бывает, смог ей сказать: «Елена Алексеевна, вы — дочь кишиневского генерал-губернатора, вы пережили Гражданскую войну, были в тифозном бараке, потом в МХАТе, потом — пришли сюда. Вы настолько интересная сами по себе как личность, вы столько несете следов, на вас столько информации записано — на вашем лице, на ваших руках, на вашей походке, на ваших глазах — ничего играть не надо! Это уже и есть богатство!» И она мне поверила, и сыграла… не просто хорошо, она сыграла выдающимся образом! Она не уступала Пельтцер. Если от Пельтцер и ждали примерно то, что она играла, и Чурикова замечательно играла (но все равно это было понятно), то то, как сыграла Фадеева — для всех было загадкой. А я понимал, разгадка — наш разговор. Мне даже показалось, что я нашел универсальный ключик к артистам…
— Только ведь такая история души не у каждого есть…
— Да вот в том-то и дело. Оказалось, что не у каждого. Это очень специальное, индивидуальное, редко встречающееся свойство, когда человек несет в себе много информации.
Вот Александр Абдулов, конечно, нес: сначала — это молодой, красивый, дерзкий и смелый, очаровательный, прекрасный, который если полюбит — только принцессу, если кто-то в него влюбится — только принцесса. Потом наступила вторая половина жизни, когда уже пришла всенародная слава и известность, и когда я говорил: «Саша, осторожнее. Вы рисковый человек, все ходите по острию ножа и снимаетесь иногда не поймешь в каких странных сочинениях, сериалах…» И тем не менее я понимал, что это — Явление, он покорял зрительный зал, и сейчас его ленты, записи продолжают нести какое-то целебное воздействие…
— А бездарных, значит, просто терпели. Может, в этом тоже есть смысл: актеры, которые сейчас на пике славы, глядя на «устаревших», но продолжающих работать, вдохновляются — значит, и их не выставят за порог, если вдруг кризис?
— Вы очень правы. Вы сформулировали вещь, которую я исповедую и понимаю. Критический возраст у мужчин-актеров наступает где-то около 35 лет, когда человек понимает — ну, не «вызвездился», не стал звездой — останусь я в профессии или нет? И те люди, которые остаются, — очень цементируют дело, берегут, они не допускают каких-то ненужных толков, кривотолков, разговоров, они работают на благо своего дома. Это тоже очень важный компонент в театре. Помню, когда я только приходил в Ленком, мой друг Ширвиндт здесь работал и некоторые спектакли мы с ним почему-то вдвоем смотрели из директорской ложи. Саша мне говорил на ухо: «Маркуша, вот щас выйдет САМЫЙ ПЛОХОЙ артист в Советском Союзе!»
Нужна, нужна профессия «хороший человек». Она не должна доминировать, но… Вы знаете, не родился бы Пушкин, если бы не было еще 30−40 посредственных поэтов, которых забыли, но на волне которых конденсировалась новая атмосфера…
— А если говорить не о тех, кто «в наследство остался», а о тех, кого взяли вы — как их искали, отбирали?
— Знаете, наверное, вопрос нервной системы. И даже у красивой женщины самое главное — глаза. Все-таки глаза несут глубинную информацию, заразительность, это какой-то очень важный орган у человека. Недавно где-то я прочел, что если террористы вас захватят, не надо в глаза смотреть. Животным, которых боитесь, не надо в глаза смотреть — считывается важная информация. Если есть радостное подключение к человеку — значит, вроде бы, похож на талантливого…
— Брали за красивые глаза!
— За красивые глаза и за какую-то энергетику. Правда, жена вообще запретила мне говорить это слово «энергетика», потому что я очень надоел с этим, а ведь сейчас это стало очень распространенным словом и все пользуются им: «энергетика», «энергетика»…
— Не понимаю, как это происходило: посмотрели кино или пошли в другой театр — увидели: актер, глаза — и вы захотели его к себе забрать, переманить, или у вас в основном люди, которые сюда сами стремились?
— Да, сюда сами стремились, приходили, я приглашал. Потом, есть такие этические нормы, через которые я не могу переступить. Например, я не могу подойти к артисту, ну, условно говоря, театра «Современник» и сказать: знаешь что, давай бросай ты эту Волчиху, свою Галю, иди ко мне — будешь играть всяких гамлетов. Я считаю, что это поступок не совместимый с принципами театральной этики.
— А если видите человека в другом театре и понимаете, что для вас он необходим?
— Вот для меня Джигарханян — очень дорогой человек и один из немногих с кем я на «ты». Кстати, с остальными я держу некоторую дистанцию. Я его пригласил в театр только тогда, когда он ушел из театра имени Маяковского. И для меня это было очень важно, что он был, так сказать, свободен и еще не мечтал о собственном театре. Были такие люди как Збруев, Леонов, которые уже здесь работали. Николай Караченцов — великий мастер и замечательно талантливый человек, — когда я пришел, играл здесь в массовке.
Правда, я пригласил из Саратовского театра Олега Янковского, но я считал, что раз Саратов, то вроде… далеко, и мои этические комплексы туда не распространяются, а кончаются кольцевой автодорогой. Но он сам хотел прийти, он искал новый театр, у него уже было настроение уезжать из Саратова.
Янковский сосватал Чурикову. Он мне как-то сказал: «Вот артистка есть одна хорошая, она пока только в кино, пригласить бы ее…» Я говорю: «Ну, пригласите, Олег Иванович, скажите, что такой актрисой интересуются» (как раз вышел замечательный панфиловский фильм «Начало»). Она пришла и сразу заблистала алмазом.
С Броневым наш роман начался с кинематографа, в «Том самом Мюнхгаузене» он сыграл и потом, поскольку времени свободного было много, мы как-то с ним разговаривали-разговаривали и постепенно, я сам не заметил как, сказал ему: «Хорошо, если бы такой артист в Ленком пришел». Он ответил: «Буду думать». В общем, как-то отложил разговор и потом дал мне знать, что пора пришла. Не знаю, насколько это было нарушением моего этического комплекса, но, судя по результатам и за давностью лет, сейчас, наверное, уже моя ответственность снимается.
— Как к вам сейчас попадают новые люди? Как происходит смотр, отбор?
— Весной традиционно большой компанией приходят студенты, идут показы. Их предварительно просматривают режиссеры, мои помощники. Потом лучших собирают и показывают мне… Если мы с вами просто сидим, разговариваем, и вы мне вдруг скажете — «Можно я вам покажусь, Марк Анатольевич?» — у меня, в прошлом тоже артиста, почему-то наступает момент крайнего неудобства — что за профессия такая жуткая? А если приходит компания — ну, студенты и студенты, можно сказать им «да», можно «нет» — все как-то легко. Поэтому это самый главный путь для пополнения труппы «Ленкома».
— То есть надо увидеть их на сцене?
— Увидеть тут, в репетиционном зале. Иногда ошибаюсь, иногда — нет.
— Достаточно увидеть актеров в деле, не обязательно с ними говорить?
— Разговоры могут быть после, но в душу самую я лезть боюсь. Хотя самое важное, через что можно узнать другого, — это понять, кто его любимый, близкий человек. Так раньше офицерское собрание, прежде чем разрешить офицеру жениться на барышне, решало: достойна ли барышня такого счастья. Воздействие любимого человека гигантское.
Иногда я с переменным успехом вел «психотерапевтические беседы». Если понимал, что артист может, как теперь говорят,"вызвездиться" после полученной роли, я спрашивал, вроде несерьезно: «А с ума не сойдешь, если будут корреспонденты приходить, расспрашивать?..» — «Да нет, что вы, это все ерунда»… Но рев толпы зрительской, обожание — это очень серьезное испытание для культуры, для организма человека. Я сам — входил в какие-то радости театральные, можно сказать, постепенно. И когда теперь поднимаюсь, допустим, в Санкт-Петербурге на сцену, у меня лишь всплывает детская улыбка на лице — так встречали, по-моему, только Ленина на III съезде: «Слово предоставляется…» — и шквал аплодисментов. Я так и признался зрителям, какие меня мысли посещают. Зрители были очень добрые…
— Вы говорили, что ошибаетесь иногда в актерах. Ошибки, как правило, творческие или этические?
— Есть и то, и другое. И какие-то художественные ошибки, в профессии, а есть и с людьми… Не хочу называть имена, но с несколькими очень талантливыми актерами мне в разное время пришлось расстаться… Все причины к одному знаменателю не приведешь.
— Еще раз вернусь к теме про увольнения и валидол: если люди начинают разрушать какой-то этический кодекс театра, от них лучше избавляться?
— Да, и причем, если решили расстаться, это лучше делать публично. Помню один раз я «дорепетировал» спектакль до такого состояния, что у меня началось сердцебиение, пришлось, как я говорил, принять валидол, и после этого я высказал всё… Тогда Глеб Панфилов ставил спектакль, и один артист очень действовал ему на нервы, и мне тоже. И я сказал: «Вот дверь, вам надо сейчас встать и навсегда уйти!» (Первый раз в жизни!) Конечно, этому человеку, может, уже на все было наплевать, и мне уже было все равно, как там у него дальше сложится, но для остальных — был хороший пример. Иногда надо людей держать.
— А среди костюмеров, осветителей бывают увольнения?
— Там… саморегулирующийся механизм. Люди годами притираются друг к другу, вырастают удивительные профессионалы. Есть у нас, допустим, уникальный человек, который знает всю радиотехнику, электронику (нашу, зарубежную), но который не может сидеть за пультом звукорежиссера, поскольку плохо слышит и не в состоянии сбалансировать голоса в музыкальном спектакле…
Постепенно случайные люди сами отпадают, понимают: что-то не получается. Не могу сказать, что надо уповать на естественный отбор, хотя иногда коллектив производит целебное воздействие.
— Вы согласны, что с творческим коллективом необходима диктатура?
— Не совсем. Как я уже говорил, должен быть баланс. Если нет соборного мышления, коллективного мнения, тогда — антреприза: поставил спектакль и гоняй его по городам. Он, может, достаточно успешно проживет год, два, но не больше. У нас некоторые спектакли — «Юнона и Авось», например — переваливают за тысячу показов.
Мы в «Ленкоме» с самого начала, когда еще был у нас худсовет с ведущими артистами, пришли вот к чему: «Говорить будут все всё, что думают, но решение будет принимать Марк Анатольевич, а все будут исполнять». Вот это — самое прекрасное взаимоотношение, формула, которая мне очень понятна и близка применительно к русскому репертуарному театру.
— И все-таки вы внутри команды или над ней?
— Внутри быть очень опасно. Когда меня приглашал Плучек в театр Сатиры, он сказал: «Я приглашаю вас быть артистом и режиссером», — но мой внутренний голос шепнул мне, что от актерских дел надо отказаться (хотя это было лестное предложение). Если я сижу в одной гримировочной комнате с артистами, как-то не с руки отдавать потом команды: «Давайте, налево, а сейчас, давайте, все вместе поползем направо»… У меня так партизаны ползали в спектакле «Разгром» в театре Маяковского. Кстати, не все захотели ползать. И вот тогда-то (не помню кто) дал мне совет: надо одного кого-нибудь выгнать. Выбрать жертву. И первый раз я сделал то, что вам рассказывал — указал на дверь. Я не имел права выгнать (я был приглашенный режиссер), я просто сказал: «Пойдите к худруку скажите, что режиссер со мной не хочет работать». Очень подействовало.
— Получается, лучше приходить сразу руководителем на новое место?
— Да. Ну, и один раз моя жена (она актриса и, конечно, мечтала быть в московском театре) приняла мудрое решение. АндрейАлександрович Гончаров после спектакля «Разгром» сказал мне: «Приходите, вместе с женой будете работать». Я (вроде счастливый) рассказал жене. А она ответила: «Не получится, будешь заложником родственных связей. Плохое дело». Я очень ей благодарен, я сам бы на это не решился…
— Есть ли у вас ритуал посвящения в ленкомовцы?
— Нет.
— Как происходит адаптация новичков, или они сами по себе?
— Нет, я здесь очень надеюсь на коллектив и говорю им об этом. Когда мы готовимся поехать на гастроли, я собираю всех (и рабочих сцены, и бутафоров, и костюмеров) — говорю вещи, которые мне дороги и важны: о коллективной самодисциплине, о том, что от энергии в театре зависит здоровье театра…
— Звезды сейчас что-то передают новичкам или они — небожители?
— Думаю, что какие-то нормальные товарищеские нормы у нас существуют, и, в общем, мы их бережем.
— Есть что-то, что вы не позволите себе делать на сцене? У некоторых голые выбегают…
— Многое, конечно, зависит от времени. Когда-то я просто плакал, вставал на колени, грозил не знаю чем, чтобы разрешили в одном спектакле Евгению Павловичу Леонову сказать слово «засранец». Когда разрешили, была победа. Сейчас, когда целые спектакли строятся на непристойных выражениях — это совсем не прорыв… Ну, с Гориным я не спорил: когда были какие-то нецензурные слова в пьесе у шутов — я на это не посягнул, но дальше — войти в какое-то среднестатистическое болото — раздеть актрису на сцене… Видел один спектакль, когда четыре мужика разделись, я подумал: какая жуткая профессия — я ведь тоже могу найти таких и сказать: «Надо, ребята», — и разденется кто-то…
— У вас в кабинете огромный стол, стульев много. Как зал планерок. Кто здесь собирается?
— Время от времени я, директор, руководители всех цехов (бутафорских, реквизиторских, электро, радио) обсуждаем здесь текущий репертуар. От актеров в таких обсуждениях никого нет, потому что дело касается разного рода технических вопросов.
Раньше у нас еще был худсовет, постепенно он стал трансформироваться в Совет основателей (куда входили ведущие артисты). А потом, помню, я решил как-то собрать артистов, а мне сказали: «Нет. Караченцов – в Австралии, может, в Новой Зеландии. У Абдулова – съемки с азербайджанской армией, все танки согнали, отменить невозможно». Сейчас удается собраться с артистами только на гастролях. Раза два в год встречаемся, но, может, чаще и не надо, а то будет эффект открытого партийного собрания…
— А человек, который принимает самые непопулярные решения, — это вы?
— Нет, я теперь такой Дедушка Мороз. Все удары на себя принимает заврежуправлением. Если же она уже ко мне приходит, наэлектризованная, взволнованная: «Марк Анатольевич, этот артист …» — тогда я говорю спокойно: «А вы скажите, что я его хочу повидать по этому же вопросу». Как правило, артисты не приходят. Вообще, в последние годы я понял, что театральный механизм основан на нервной системе, связан с такой загадочной неуловимой субстанцией как психическая энергия (об этом Рерих первый сказал). Кто знает, почему, когда первый раз — ввод в спектакль — человек очень хорошо играет, а потом второй раз уже ничего не получается?.. Большие нервные затраты связаны и с той энергетикой, которую несет зрительный зал… Поэтому нервы артиста надо беречь, как скрипач бережет свою скрипку.
Конечно, в театре должна быть иерархия, я даже иногда говорю актрисам или актерам: «Вы знаете, вот вы уже имеете право капризничать, потому что вы уже Мастер», — но как-то все это на иронии, на юморе. Чурикова — не может не опоздать немножко. Караченцов всегда немножко подзапаздывал, я говорил: «Коля, у меня ощущение, что сегодня вы вовремя пришли, но еще два-три круга сделали вокруг театра, чтобы не разрушить ощущение главного артиста».
Финансы, организацию — контролирую лишь до определенной степени, если речь идет о крайностях. Если, допустим, директор скажет мне: «У нас этот спектакль очень хорошо идет, все время звонят, давайте сделаем билет в 10 тысяч», — вот тут я отвечу: «Знаете что, давайте потолок для себя прочертим, несколько первых рядов пусть будут по 5 тысяч, допустим, а дальше — для всех».
— То есть Ленком это не бизнес?
— Нет, нет. Знаете, очень давно я был назначен сюда «художественным руководителем-тире-директором». Но я постепенно понял, что не надо мне заниматься бухгалтерией. Меня могут обмануть, я могу принять какое-то непрофессиональное решение, поэтому эти задачи стал решать мой директор, и в уставе теперь прописано: есть директор, а есть — художественный руководитель, и я очень рад этому обстоятельству. Я не занимаюсь вопросами, где могу проявить непрофессионализм.
«Ленком» — не бизнес. А успех — это не доход на место. Это радость зрительская, которая выражается либо в смехе, хохоте, либо в продолжительных аплодисментах. Ну, и еще есть какие-то мелкие радости домашние — когда какая-то моя шутка, прибаутка воспринимается на аплодисменты. Тут я получаю адреналин, радость меня посещает неземная. Потом я думаю: чему же это я так радуюсь?..
— Как вам кажется, какие ваши качества помогают вам всем руководить, а с чем бывает трудно?
— Когда делаешь приказ о распределении ролей — там человека два-три на роль. А потом в какой-то момент понимаешь, что Гамлет, условно говоря, должен остаться один. Не возможны два состава. Вот здесь бывает тяжело, мучительно трудно и какие-то начинаются метания и шараханья.
А помогает — какое-то упрямство, жесткая принципиальность в ряде вопросов. Не хочу хвалиться и говорить, что я и все мои поступки непогрешимы — нет, но я всегда в таких случаях вспоминаю вот что. Рассказывают, что когда по улицам вместо машин еще ездили кареты и повозки, иногда приключалось то, что называли «лошади понесли». Транспорт становился неуправляемым. И вот находился человек, который выходил, хватал коня за поводья и останавливал… Чего там Шарапова кричит на теннисном корте? Она посылает устрашающую энергию… Есть тайные механизмы, которыми интуитивно, подсознательно или сознательно надо владеть. Во всяком случае — надо о них думать, они есть и работают помимо всяких слов.
— Можно ли говорить о технологиях управления театром или все очень индивидуально, нужно чувствовать каждого отдельного человека, принимать каждый раз свои решения?
- То, что вы сказали. Наверное, это очень индивидуально, неповторимо. Нельзя ходить по кругу, чтобы все повторялось, что-то все равно изменится в обществе, в мире, в космосе…
Первое впечатление после интервью, что те вещи, о которых рассказывает Марк Анатольевич, – не поддаются измерению и учету: слишком уж «тонкие материи». Все равно, что искать «Формулу любви». Здесь нет шаблонов, каждый раз – свое решение, непредсказуемое, как «Тот самый Мюнхгаузен». Это творческое управление похоже на сложный музыкальный инструмент: настраивает, играет и придумывает партии – Мастер. Вот такое «Обыкновенное чудо». Но постепенно именно так открывается «Система Захарова».
© BUSINESSOLOGY, 2009
